»
Петр Иванов, социолог города
Что не так с языком российской урбанистики

Представьте, что из языка урбаниста вдруг пропали слова «мастер-план», «малые города». «концепция» и еще несколько. Не замолчит ли он навсегда? Понятийный аппарат урбанистики сформировался вокруг нескольких (по пальцам пересчитать) успешных кейсов, которые за чередой повторений потеряли свою привлекательность, и важных определений, которые спустя тысячи раз упоминаний превратились в общие места с неясным содержанием. Откуда урбанистика позаимствовала свой словарь и привнесла ли что-то новое? Как говорить (и реально ли) говорить вне привычных нарративов? И как поможет политика и академия? Дает ответы Петр Иванов.
Языковой поворот в философии научил нас — то, как мы о чем-то говорим, напрямую влияет на то, чем это является и как мы это делаем. Немецкие урбанисты даже проводили лонгитюдные исследования междисциплинарных команд, в которых изучали, как социологи, архитекторы, ландшафтники и другие специалисты учатся говорить друг с другом и находят (или не находят) общий язык. В России полно ученых, занимающихся science and technology studies, но на поле урбанистики они пока не заходили. А жаль: здесь есть где разгуляться.
Российская урбанистика полна неотрефлексированных концептов, которые используются для говорения о нашей деятельности. В ядре понятийного аппарата — комфортная городская среда.
Еще лет десять назад все задавались вопросом, что это такое и как это измерять. На уровне теоретического осмысления воз и ныне там. Мы вроде бы интуитивно понимаем, что это что-то более комплексное, чем просто приятная температура и ровная плитка, но дальнейшее размышление стопорится в виду боязни теоретизирования.
Теорию нам заменяют документы Минстроя. Они во многом представляют собой письмо Дяди Фёдора, так как создавались большими коллективами экспертов, которые зачастую даже ни разу не собирались вместе для мозгового штурма.
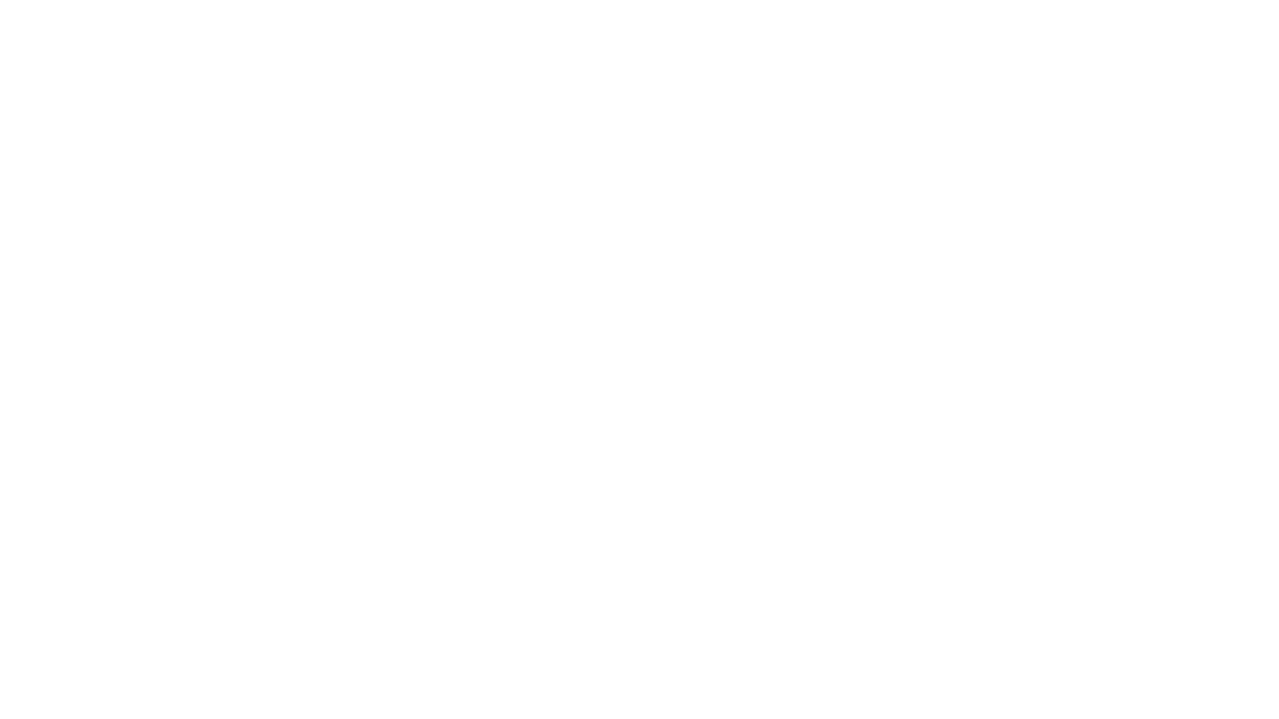
Просто работали в общем гугл-документе под наблюдением модератора разработки. А стало быть, в них мы видим фрагменты самых различных взглядов. В результате наша работа стала, как у пацака из «Кин-дза-дза!», следованием словам языков, продолжения которых мы сами не знаем.
Ситуация могла бы быть интересней, если бы мы опирались на академию. И нечто подобное наблюдалось ранее в Санкт-Петербурге (с Европейским университетом и ЦНСИ), а сейчас прослеживается в Тюмени (в ТюмГУ). И там и там практика вырастает из теории, что делает эту практику более логичной и обоснованной, нежели массовая урбанистика. Язык социальной антропологии отлично подходит для того, чтобы быть базисом для изучения поведения горожан и проектирования новых сценариев в пространствах.
Ситуация могла бы быть интересней, если бы мы опирались на академию. И нечто подобное наблюдалось ранее в Санкт-Петербурге (с Европейским университетом и ЦНСИ), а сейчас прослеживается в Тюмени (в ТюмГУ). И там и там практика вырастает из теории, что делает эту практику более логичной и обоснованной, нежели массовая урбанистика. Язык социальной антропологии отлично подходит для того, чтобы быть базисом для изучения поведения горожан и проектирования новых сценариев в пространствах.
Но вернемся к массовой урбанистике. Вот, например, есть традиция, согласно которой нужно рисовать ментальные карты, брать глубинные интервью и проводить опросы для того, чтобы реализовать социокультурное исследование для заявки на конкурс малых городов. Из чего эта традиция взялась? Кому нужны ментальные карты?
Почему бы нам не заменить опросный инструментарий на полуструктурированное наблюдение? Честное слово, иногда наблюдение дает результаты в разы лучше любых опросов. Но мы про это практически не думаем и на автомате составляем анкеты и гайды для интервью.
Этот методологический автоматизм — тоже производное от отсутствия теоретического языка. Глазычев написал в «Глубинной России», что как-то раз ему пригодилось в качестве метода проведение конкурса детского рисунка, — мы проводим.
И ни на одном из урбанистических форумов не проводятся сессии, посвященные обсуждению вопроса о возможностях и ограничениях этого метода. Мы не задаемся вопросом, когда и зачем этот метод уместен, а когда он представляет собой пустое действие. Мы даже не знаем, как правильно этот вопрос задать, чтобы критически осмыслить нашу деятельность.
Далеко не только из теоретического языка может произрастать практика. Скажем, в странах Запада многие урбанистические практики появились из политических манифестов, стали продолжением политической проблематизации каких-то вещей. То же соучастие, оно же демократический дизайн, — практика в первую очередь политическая, а только во вторую — заземленная в науке. Следуем ли мы каким-то политическим манифестам? Очевидно, нет.
Вместо политического языка мы, опять же, говорим на языке Минстроя. Когда мы ведем речь о социальной справедливости, то имеем в виду главным образом социально одобряемые группы. Да, надо позаботиться о пенсионерах, о мамах с колясками, о маломобильных группах граждан. Но кто позаботиться о мигрантах? О наркозависимых? О бездомных? Нам не хватает смелости и идейности, чтобы отстаивать целостную идеологию equity, вместо этого мы довольствуемся административным полуфабрикатом.
Левые политические ученые неспроста обвиняют российских урбанистов в том, что с помощью соучастия они только укрепляют действующую власть. С позиции целостной политической идеологии есть все возможности последовательной критики какого-либо феномена. И тем менее убедительны ответы на эту критику, чем более расплывчата политическая ориентация отвечающего. Вроде обидно звучит, но для ответа не хватает аппарата политических категорий.
Далеко не только из теоретического языка может произрастать практика. Скажем, в странах Запада многие урбанистические практики появились из политических манифестов, стали продолжением политической проблематизации каких-то вещей. То же соучастие, оно же демократический дизайн, — практика в первую очередь политическая, а только во вторую — заземленная в науке. Следуем ли мы каким-то политическим манифестам? Очевидно, нет.
Вместо политического языка мы, опять же, говорим на языке Минстроя. Когда мы ведем речь о социальной справедливости, то имеем в виду главным образом социально одобряемые группы. Да, надо позаботиться о пенсионерах, о мамах с колясками, о маломобильных группах граждан. Но кто позаботиться о мигрантах? О наркозависимых? О бездомных? Нам не хватает смелости и идейности, чтобы отстаивать целостную идеологию equity, вместо этого мы довольствуемся административным полуфабрикатом.
Левые политические ученые неспроста обвиняют российских урбанистов в том, что с помощью соучастия они только укрепляют действующую власть. С позиции целостной политической идеологии есть все возможности последовательной критики какого-либо феномена. И тем менее убедительны ответы на эту критику, чем более расплывчата политическая ориентация отвечающего. Вроде обидно звучит, но для ответа не хватает аппарата политических категорий.
Разрешение этой ситуации я бы видел в повороте урбанистики к академии и политическим движениям.
Первое более безопасно и лампово, но требует обоюдного движения как со стороны практиков, так и со стороны ученых. Мы должны стать интересны и открыты друг для друга. А для этого нужно найти точки соприкосновения наших миров и признать различия в языке и мышлении друг друга. Второе — более сложный путь, потому как требует от политиков обращения к муниципальным проблемам, а от урбанистов — готовности рисковать комфортом локального административного заказа. Но оба пути важны, потому как помогут нам обрести целостность нашего мышления и нашей практики.
